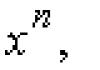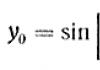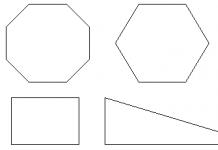Тюрьмы боятся все. Абсолютно все. Нет ничего более страшного, чем тюрьма и рабство, чем лишение свободы. Сегодняшние тюрьмы, отвратительные и полные каких-то других устоев общества, заключенного там, конечно, отличаются от тюрем прошлого. Но сам смысл тюрьмы, ее образ, всегда беспокоил, волновал, и будет волновать в дальнейшем и художников, служа материалом для их творчества. Давайте посмотрим серию гравюр «Тюрьмы» Пиранези, пожалуй, самую знаменитую в его наследии.
Джованни Пиранези (1720-1778) известен многочисленными гравюрами с архитектурными сооружениями. Есть такое направление - бумажная архитектура, я писала о ней, повторяться не буду, так вот - Пиранези часто называют бумажным архитектором, ведь большая часть его рисунков, эскизов, архитектурных чертежей, не была осуществлена в архитектуре и осталась только в виде изображений.

«Тюрьмы», а точнее «Фантастические изображения тюрем» потрясли современников, и не оставляют равнодушными и сегодняшних зрителей.
Эта серия гравюр отличается от всех остальных работ итальянского художника своим фантастическим, почти сюрреалистическим видом.
Мрачные помещения, похожие на гигантские лабиринты, в которых сочетаются различные архитектурные элементы.
Порой это похоже на инфернальный хаос из какого-то параллельного мира.

Что меня поражает в гравюрах - это не только диковинные сооружения и устройства, придающие фантастическим тюрьмам драматизма. Поражают красивые архитектурные формы, изящные скульптуры, многоплановость композиции, и воздух.
Воздух там наполняет помещения не только страданиями, а еще и таинственным светом и … надеждой. На свободу, на другой мир.
Что-то фантастическое.

Английский писатель Томас де Квинси (1785-1859) в одном из своих произведений, написал, что Пиранези запечатлел на этих гравюрах те картины, что являлись ему в горячем бреду. Всего было создано 16 досок с изображениями фантастических тюрем. Первые из них были опубликованы в 1749 году.



Джованни Баттиста Пиранези (итал. Giovanni Battista Piranesi, или итал. Giambattista Piranesi; 4 октября 1720, Мольяно-Венето (близ города Тревизо) — 9 ноября 1778, Рим) — итальянский археолог, архитектор и художник-график, мастер архитектурных пейзажей. Оказал сильное влияние на последующие поколения художников романтического стиля и — позже — на сюрреалистов. Сделал большое количество рисунков и чертежей, но возвел мало зданий, поэтому с его именем связывают понятие «бумажная архитектура».
Родился в семье каменотёса. Обучился основам латыни и классической литературы у своего старшего брата Анджело. Основы архитектуры постигал, работая в магистрате Венеции под руководством своего дяди. Как художник, испытал значительное влияние искусства ведутистов, весьма популярного в середине XVIII века в Венеции.
В 1740 поехал в Рим в качестве рисовальщика-графика в составе посольской делегации Марко Фоскарини. В Риме увлеченно исследовал древнюю архитектуру. Попутно обучился в мастерской Джузеппе Вази искусству гравюры на металле. В 1743—1747 жил по большей части в Венеции, где в числе прочего работал вместе с Джованни Баттиста Тьеполо.
В 1743 опубликовал в Риме свою первую серию гравюр под названием «Первая часть архитектурных набросков и перспектив, придуманных и награвированных Джованни Баттиста Пиранези, венецианским архитектором». В ней можно увидеть основные признаки его стиля — желание и уменье изображать монументальные и трудно постигаемые глазом архитектурные композиции и пространства. Некоторые листы этой небольшой серии сходны с гравюрами самой знаменитой серии Пиранези «Фантастические изображения тюрем».
В последующие 25 лет, до своей смерти, жил в Риме; создал огромное количество гравюр-офортов, изображающих в основном архитектурные и археологические находки, связанные с древним Римом, и виды знаменитых мест того Рима, который окружал художника. Производительность Пиранези, как и его мастерство, непостижимы. Он задумывает и выполняет многотомное издание офортов под общим названием «Римские древности», содержащее изображения архитектурных памятников древнего Рима, капителей колонн древних зданий, скульптурных фрагментов, саркофагов, каменных ваз, канделябров, плит для мощения дорог, надгробных надписей, планов зданий и городских ансамблей.
В течение всей своей жизни работал над серией гравюр «Виды Рима» (Vedute di Roma). Это очень большие листы (в среднем около 40 см в высоту и 60-70 см в ширину), которые сохранили для нас облик Рима в XVIII веке. Восхищение древней цивилизацией Рима и понимание неизбежности её гибели, когда на месте величественных зданий современные люди заняты своими скромными повседневными делами, — вот основной мотив этих гравюр.
Особое место в творчестве Пиранези занимает серия гравюр «Фантастические изображения тюрем», более известная как просто «Тюрьмы». Эти архитектурные фантазии были впервые изданы в 1749 г. Через десять лет Пиранези вернулся к этой работе и создал на тех же медных досках практически новые произведения. «Тюрьмы» — это мрачные и пугающие своими размерами и отсутствием постижимой логики архитектурные построения, где пространства загадочны, как непонятно предназначение этих лестниц, мостиков, переходов, блоков и цепей. Мощь каменных конструкций подавляет. Создавая второй вариант «Тюрем», художник драматизировал первоначальные композиции: углубил тени, добавил множество деталей и человеческих фигур — то ли тюремщиков, то ли узников, привязанных к пыточным приспособлениям.
Последние десятилетия известность и слава Пиранези растёт с каждым годом. Издаются всё новые книги о нём и лучшие музеи мира устраивают выставки его работ. Пиранези, вероятно, самый знаменитый художник, который приобрёл такую известность лишь графикой, в отличие от других великих гравёров, которые были, кроме того, великими живописцами (Дюрер, Рембрандт, Гойя).
Интерес к античному миру проявился в занятиях археологией. За год до смерти Пиранези исследовал древнегреческие храмы в Пестуме, тогда почти неизвестные, и создал прекрасную серию больших гравюр, посвящённых этому ансамблю.
В сфере практической архитектуры деятельность Пиранези была весьма скромной, хотя сам он никогда не забывал на титульных листах своих гравюрных сюит прибавить вслед за своим именем слова «венецианский архитектор». Но в XVIII веке эпоха монументального строительства в Риме уже закончилась.
В 1763 г. папа Климент XIII поручил Пиранези постройку хоров в церкви Сан-Джованни в Латерано. Главной работой Пиранези в области реальной, «каменной» архитектуры стала перестройка церкви Санта Мария Авентина (1764—1765).
Умер после долгой болезни; похоронен в церкви Санта-Мария дель Приорато.
После смерти художника его семья переехала в Париж, где в их гравюрной лавке продавались среди прочего и работы Джованни Баттиста Пиранези. В Париж были перевезены и гравированные медные доски. Впоследствии, сменив нескольких владельцев, они были приобретены Папой Римским и в настоящее время находятся в Риме, в государственной Калькографии.

Источники - Википедия и
Посвященная великому итальянскому художнику XVIII века, Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), граверу, рисовальщику, архитектору, ведутисту, декоратору, ученому-исследователю.
Фрагмент. Титульный лист ко второму тому серии с античным рельефом из портика церкви Санти Апостоли в Риме .
Рельеф с орлом был найден на Форуме Траяна и установлен в портике церкви Санти Апостоли в Риме. Орел с расправленными крыльями, символ величия Рима, часто встречается у Пиранези.
В экспозицию вошли более 100 офортов мастера, гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, графические листы из Фонда Чини (Венеция), Научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея истории московской архитектурной школы при МАРХИ, Российского государственного архива литературы и искусства, Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова. Впервые вниманию российского зрителя представлены гравировальные доски Пиранези, предоставленные Центральным институтом графики (Римская Калькография). В общей сложности на выставке экспонируется около 400 произведений.
Джованни Баттиста Пиранези.
Круглая башня. Лист III к сюите «Воображаемые темницы…», 1761.
Зрители смогут увидеть одну из самых знаменитых серий работ великого мастера. Серия листов «Carceri…» (« Воображаемые темницы Дж. Батиста Пиранези, венецианского архитектора»). В XIX веке возник миф, что автор создал серию «Carceri…» в состоянии бреда: наркотики, тревога, кошмары - все это находили исследователи в этих работах. В настоящее время в мрачных пространствах темниц, пытаются найти существовавшие в действительности строения. По одной из версией прототипом этих работ стала Мамертинская тюрьма, хотя так же есть мнение что автор не мог опираться на образцы античной архитектуры, вроде Мамертинской тюрьмы или замка Святого Ангела в Риме, а также на венецианские Пьомби - так как во всех этих тюрьмах камеры были крошечные. Обе версии имеют право на существование.
Джованни Баттиста Пиранези. Вход в верхнюю комнату мавзолея императора Адриана.
Лист из серии «Римские древности», 1756. Офорт, резец. ГМИИ им А.С. Пушкина.
Так, черты Мамертинской тюрьмы, явно присутсвующие в цикле Пиранези «Carceri…» - каменные блоки, деление пространства на располагающиеся друг над другом помещения, а главное - характерное закрытое решеткой круглое окно, расположенное в полу камеры верхнего этажа (изначально только через него можно было проникнуть в нижнюю камеру), а так же лестница XIV века, соединявшая две камеры
Джованни Баттиста Пиранези. Фрагмент. Театры Бальба, Марцелла, амфитеатр Статилия Тавра, Пантеон.
Из серии «Марсово Поле…». 1763. Офорт, резец. ГМИИ им А.С. Пушкина.
Мамертинская тюрьма (лат. Carcer Tullianum; итал. Carcere Mamertino o Tulliano) — сохранившаяся поныне тюрьма древнего Рима, в северной оконечности Капитолия и форума, древнейшее строение города. Мамертинская тюрьма предназначалась для государственных преступников, военнопленных правителей и т. п. (Верцингеториг, Югурта, Луций Элий Сеян), которые здесь ожидали проведения по улицам города во время триумфа, а затем умерщвлялись петлей и голодом. Во времена империи тела казнённых выбрасывались на Гемониеву террасу. По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Пётр и Павел, вследствие чего папа Сильвестр в IV веке, по желанию императора Константина Великого, посвятил это место обоим апостолам. Здесь была построена капелла San Pietro in Carcere, на поверхности расположена церковь San Giuseppe dei Falegnami.
Джованни Баттиста Пиранези. Фрагмент. Пьяцца Навона, расположенная над руинами цирка Домициана.
Лист из сюиты «Виды Рима…». 1773. Офорт, резец.
С помощью прекрасных работ Пиранези гости музея смогут увидеть и прикоснуться к Вечному городу, к римской имперской архитектуре. Через призму и восприятие этого автора данное мировое наследие стало доступным во всей Европе. Современники изучающие Рим по гравюрам Пиранези, при встречи с городом даже испытывали разочарование. Так он был великолепен на гравюрах, что исторические виды не могли соперничать со своим отражением. Екатерина II была восторженной поклонницей творчества великого венецианца, и очень переживала, что у нее всего лишь 13 томов работ Пиранези.
Гравировальные доски Пиранези.
В залах музея отечественный зритель впервые сможет видеть гравировальные доски Пиранези, которые хранятся в собраниях Центрального института графики в Риме в составе общего фонда. Долгая история возвращения в Рим коллекции братьев Пиранези, сыновей Джованни Батиста, началась 23 января 1810 года и закончилась продажей 25 ящиков с 1191 медной доской в марте 1839 года, после смерти Франческо Пиранези в Париже, куда он, будучи сторонником Римской республики, перебрался вместе с братом Пьетро в 1799 году.
Фрагмент. Гравировальная доска Пиранези.
Переговоры о возвращении в Италию этого художественного сокровища, которые от лица папы Григория XVI вел кардинал Антонио Тости, завершились в итоге самым значительным приобретением Апостольского Палаты, коллекции Калькографии, насчитывающая 23890 досок и являющаяся самым крупным собранием такого рода в мире, входит в состав Национального кабинета гравюр Центрального института графики Министерства культурного наследия и культурной деятельности и туризма.
Вы так же сможете увидеть пробковые модели античных памятников Вечного города и храмов Пестума, которые изготавливались в Риме с середины XVIII века. Одним из знаменитых авторов подобных моделей был Антонио Кики (1743-1816). Изготовленные Кики пробковые модели представляли собой не просто уменьшенные копии: нередко автор дорабатывал их, снимал наслоения поздник веков. На выполнение каждой модели уходило три-четыре месяца. Рельефы, на основе которых выполнялись 36 моделей (то есть полная серия, которую можно было приобрести у Кики в 1770-е годы), вероятно, были сделаны с опорой на гравюры Пиранези.
Модель Пантеона в Риме. Пробка резная.
Шесть пробковых моделей Антонио Кики находились в собрании Эрмитажа еще 1769 году. Заказал их Иван Иванович Шувалов, фаворит Елизаветы Петровны, основатель Академии художеств в Санкт-Петербурге, уехавший из России вскоре после смерти императрицы. В 1778 году Шувалов по заказу Екатерины II купил полную версию моделей для будущего императора Александра I. Позднее модели из Эрмитажа передали в Академию художеств и разместили в классе архитектуры.
Б.М. Иофан. Дворец Советов в Москве. Разработка окончательного варианта проекта. Перспектива с набережной Москвы-реки. 1935.
Бумага, карандаш, тушь, гуашь.
Несколько залов выставке посвящено советским архитекторам, которые пользовались наследием Пиранези. Иногда это были переработки наследия Древнего Рима, а иногда и прямое заимствование. В любом случае величие новой Советской империи требовало величественных памятников, и как всегда архитектурные идеи черпались из наследия первой империи, которая просуществовала долгие века, и распространила свою культуру на многие территории и народы.
Приходите на выставку, где перед вами предстанут великолепные гравюры и величие Рима пройдет перед вашим взором. И его свет отразится в работах последующих поколений архитекторов разных стран и времен. Прикоснитесь и вы к источнику их вдохновения.
Обратите внимание , что очередь в Главное здание разделена на две части: очередь на выставку «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии» и очередь на выставку «Пиранези. До и после. Италия - Россия. XVIII-XXI века» и постоянную экспозицию.
Адрес:
ул. Волхонка, 12, м. Кропоткинская, м. Боровицкая, м. Библиотека им. Ленина.
Время работы:
вт, ср, пт, сб, вс с 11:00 до 20:00; касса (вход) с 11:00 до 19:00;
по четвергам с 11:00 до 21:00; касса (вход) с 11:00 до 20:00.
Выходной день - понедельник.
Цена билета:
полный - 300 руб., льготный - 150 руб. Дети до 16 лет - бесплатно. Подробнее о льготах .
Стоимость билетов на посещение с выставкой :
с 11:00 до 13:59: 400 рублей, льготный - 200 рублей,
с 14:00 до закрытия музея: 500 рублей, льготный - 250 рублей.
Бесплатные категории - бесплатно.
Продажа билетов осуществляется на определенный сеанс, где время сеанса - это время входа на выставку. Всего 12 сеансов каждый день и 13 сеансов в четверг. Вход в Музей - до 19:00, в четверг - до 20:00.
Подробнее с расписанием сеансов и лекций, а также информацией о покупке электронных билетов можно ознакомиться .
Поддержи авторов - Добавь в друзья!
Posts from This Journal by “ГМИИ им А.С.Пушкина” Tag
 Выставка «Анатомия кубизма».
Выставка «Анатомия кубизма».
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка-инсталляция «Анатомия кубизма». Она предоставит возможность широкой публике впервые…
Выставка "Скульпторы и livre d"artiste" в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку работ ведущих мировых скульпторов в изданиях livre…
-
В ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит выставка "Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея Альбертина (Вена)". Но сегодня мы хотим рассказать…
Ноябрьские праздники в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В длинные ноябрьские выходные ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашает вас к себе в гости. Начать можно с вечера пятницы - в рамках «Пятниц в…
Отмеченный недавно премией Андрея Белого за книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI» историк искусств и старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов подарил своим поклонникам еще одну книгу, без которой нельзя представить книжное собрание любого, кто профессионально занимается или интересуется искусством (не важно - классическим или современным). Новая монография Ипполитова «“Тюрьмы” и власть. Миф Джованни Баттиста Пиранези» повествует об одном, но поистине великом произведении - знаменитой серии офортов Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) Carceri d’Invenzione («Тюрьмы»). Но это не столько работа по истории искусства в чистом виде, в которой автор изучает обстоятельства зарождения замысла и публикации серии, это исследование бесконечной жизни «Тюрем» (которые впечатлили ни одно поколение художников, архитекторов и теоретиков) в веках. С любезного разрешения Аркадия Ипполитова и издательства «АРКА» «Артгид» публикует фрагмент монографии «“Тюрьмы” и власть. Миф Джованни Баттиста Пиранези».
Обложка книги Аркадия Ипполитова
«Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплечных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы фута в полтора длиной и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обеих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжий, с большим трудом вырывал куски мяса, которое ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды с одной и той же стороны и выворачивать, и на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в шесть ливров.
После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовавший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе: к ногам и рукам, по одному к каждой конечности…
…Наконец, палач Самсон сказал господину Ле Бретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заартачились, а одна из привязанных к бедрам рухнула наземь. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им (я слышал): "Поцелуйте меня, судари". Кюре церкви Святого Павла не осмелился, а господин де Марсийи нагнулся, прошел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бранились, делали свое дело, а он на них не в обиде; просил их молиться за него, а священника церкви Святого Павла - отслужить молебен на ближайшей мессе.
После двух-трех попыток палач Самсон и тот другой, который орудовал щипцами, вытащили из карманов ножи и, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули что есть силы и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек и остальные связки; резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую.

Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв, хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Один из палачей вскоре после казни даже сказал, что, когда они подняли торс, чтобы бросить на костер, он был еще жив. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой, потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы.
…Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Куски мяса и туловище сгорели часа за четыре. Офицеры, в том числе я и мой сын, вместе с отрядом лучников оставались на площади почти до одиннадцати.
Некоторые придали особое значение тому обстоятельству, что назавтра какая-то собака улеглась на траве, где был костер. Ее несколько раз гнали прочь, но она возвращалась. Но не трудно понять — собака почувствовала, что в этом месте теплее, чем где-либо еще»…
Это описание казни Робера Франсуа Дамьена, покушавшегося (неудачно) на жизнь короля Людовика XV в 1757 году.

Вот так-то. Просвещение, культ Разума, либерализм, бурбонский сквознячок, Вольтер с Дидро остроумят в салоне Помпадур, а четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер - сцена, полная ужаса воистину средневекового. О культе Разума в этой сценке из парижской жизни свидетельствует только замечание о собаке, возвращению которой на место казни кто-то хотел придать инфернальное значение, в то время как собака просто почувствовала, что там теплее. Причем, это — Париж, а не Рим, столь ужаснувший кавалера де Бросса своей отсталостью. Вольтер, как утверждают, назвал расправу над Дамьеном «закономерным итогом его поступка»: впрочем, что еще оставалось энциклопедистам, обивавшим порог мадам Помпадур в поисках денег на «Энциклопедию»? Герцог Шуазёль, просвещенный покровитель Пиранези, при всей своей нелюбви к иезуитам, наверняка выступал еще хлеще. Интереснейшее свидетельство о казни Дамьена имеется в «Histoire de ma vie» Казановы, оказавшегося в Париже как раз в этот момент: «Мы имели мужество смотреть на это душераздирающее зрелище в течение четырех часов… Несколько раз я был вынужден отворачиваться и затыкать уши, как только слышал его пронзительные крики, половина его тела была из него вырвана, но Ламбертини и мадам XXX и бровью не повели. Из-за того ли, что сердца их очерствели? Они мне сказали, что ужас перед порочностью преступника оградил их от должного и естественного чувства сострадания к его неслыханным мукам». Одним словом, общественное мнение «имело мужество», и венецианец Казанова, хотя и подчеркивает в себе модную чувствительность, отличающую его от подданных французского короля, тем не менее не смог пропустить столь актуальное событие светской жизни, как четвертование. Реакция общества Просвещения — того самого, в котором «литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями», а «женщины царствовали», на казнь Дамьена показательна и поучительна.

Признаемся, однако, что мы знаем только так называемые «свидетельства», а это все равно, как если бы мы брежневскую (пусть даже и не сталинскую) эпоху восстанавливали по сообщениям прессы. Безусловно, хорошим тоном в салонах было выказывать «ужас перед порочностью преступника», и от пронзительных криков осужденных сердца модных жен, царствовавших в кругу большого света, были ограждены, но какие-то толки и какое-то недовольство варварской бесчеловечностью казни — и других казней, и пенитенциарной системой вообще — уже чувствовалось, витало в воздухе, и именно оно породило трактат Беккариа «О преступлениях и наказаниях», который, кстати, приводит казнь Дамьена как пример недопустимой формы возмездия за преступление. Те же философы в салоне Помпадур выражали солидарность с правительством, но между собой перешептывались, и шепоты конденсировались, и вот, в 1775 году, не прошло и двадцати лет, когда Екатерина II, подруга энциклопедистов, передовая и столь ими любимая, одобрила решение «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь», вся просвещенная Европа взвыла и укорила императрицу варварством. Екатерина лишь подражала Людовику XV, а такая неадекватная реакция… В просвещенной Европе через некоторое время разразится Великая французская революция и убийство станет нормой; Екатерина и аристократы-консерваторы обвинять будут философов, особенно по поводу екатерининской жестокости вывших (винить их сейчас снова сделалось модно), хотя гораздо больше в этом виноваты те, кто подписывал приказ Дамьена и Емельку четвертовать (винить их, вместе с марксизмом, из моды вышло), то есть Людовик XV с Екатериной и их пенитенциарная система.

Как к этому относился Пиранези? Казнь Дамьена произошла спустя восемь лет после первого выхода Capricci di Carceri в свет. Подобные казни — тоже кровожадные, хотя и не столь, пытки и ужасающие условия тюрем были повсеместны, но факт, что поглазеть на публичные казни — то есть на убийство одного человека другим — собиралась толпа, и то, что они и обставлялись как нечто из ряда вон выходящее, свидетельствует, что в то время в силу своей подчеркнутой жестокости система наказания все-таки воспринималась как нечто, из обычной жизни выпадающее, в отличие от нашего времени, когда мы, став более гуманными и на публичные казни не собираясь, их стараемся и не замечать, так же как и тюрьмы, тем самым подразумевая, что они норма, вроде как центральное отопление. Для Пиранези нормой они не были, так что сегодня одно только его обращение к теме тюрьмы можно осмыслить как некую форму протеста, пусть даже и неосознанную. Не то чтобы до Пиранези к этой теме никто не обращался: как уже говорилось, прообразов находят множество и в графике, и в живописи, но все это единичные случаи, даже у Маньяско, а так, чтобы сделать целую серию тюремных капризов — прямо как Жан Жене? Такого еще не было.
Все же, что бы там ни говорило искусствоведение про традицию, все время приходится возвращаться к личности, так как Capricci di Carceri — произведение очень личностное, и из традиции, быть может, вырастая, оно идет ей наперекор. Личность Пиранези времени создания Capricci di Carceri для нас большое неизвестное: фактов нет, одни догадки и интерпретации. Один факт все же наличествует, и он-то и самый главный: Capricci di Carceri. Это произведение о личности Пиранези говорит многое, очень многое, просто история искусства до сих пор с Capricci di Carceri справиться не может. Образы этой серии очень индивидуальны и ни в какой ряд классификации не влезают; история искусства же, претендуя на то, чтобы быть наукой — каковой она не является, — все время старается выдумать себе законы и выстроить классификации, заимствуя их у других дисциплин. Как раз факт существования Capricci di Carceri — один из ее, истории искусства как науки, провалов, и это может расстроить, если иметь намерение искусство упорядочить и систематизировать.

Я не имею ничего против типологии, то есть классификации по существенным признакам, основанной на понятии типа как единицы расчленения изучаемой реальности. В то же время я уверен, что произведение искусства, чем более оно значительно, тем менее сводится к типу и к пресловутому «типическому». Способность индивидуальное впечатление превратить в универсальное переживание — это и есть то, что искусством мы зовем. Лишь индивидуальность ставит человека выше века, времени и истории; индивидуальность густо замешана на столь сложном понятии, как «духовность». Духовность — можно по этому поводу страдать, можно негодовать, а можно это констатировать, как я это сейчас и делаю, — заменила нам, в нашем сегодняшнем понимании искусства, Бога, так что, несмотря на все попытки что-то переиначить и развернуть искусство в другую сторону, одухотворенность и индивидуальность — все еще пропуск в вечность. Со времен Ренессанса это было так, и пока ничего не изменилось, хотя — не исключаю и такую возможность — все рано или поздно изменится. Я предвижу совершенно справедливое замечание, что «духовность» не менее осточертела, чем «типическое», и что если в последнем есть хоть какая-то конкретность, то «духовность» — это уж совсем непонятно что такое, это прямо «национальная идея», такая же безразмерность, располагающая к любым, самым грязным спекуляциям. В данном случае, в разговоре о Capricci di Carceri, под духовностью я понимаю способность Пиранези не только отразить все, в чем он существовал, что он переживал и что его сформировало — рождение в Венеции и отношения (или отсутствие оных) с тамошними интеллектуалами, Вечный город с его властью пап, католицизмом, античностью и бурбонским сквознячком, Неаполь с его раскопками, барокко и масонами, то есть век вообще, век восемнадцатый в данном случае, сеттеченто, европейское Просвещение и все, что с ним связано: сияние Разума, либертинаж и bange Ahnung, тревожное предчувствие, его пронизывающее, - но и способность Пиранези над веком, годом, днем подняться, так же как и над всеми мыслимыми порядками и систематизациями, и наделить Capricci di Carceri возможностью быть столь современными и в 2012 году, что они оказываются центром в паутине ассоциаций, никак не привязанных ко времени, Capricci di Carceri породившему. Величие произведения не должно измеряться его актуальностью в ту или иную эпоху, поэтому и объяснять его только через призму сопутствующей ему современности — значит его обеднять. Величие произведения в том, что оно способно помочь нам из темницы времени выбраться в вечность:
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Этой цитатой из Данте Джакомо Казанова заканчивает пятнадцатую главу четвертого тома «Histoire de ma vie». Следующая глава начинается фразой: «Я выхожу из темницы». В повести о побеге Казановы из венецианской тюрьмы I Piombi, самом знаменитом месте в его книге, концовка «Ада» Данте звучит как нельзя кстати. Благодаря этой строчке живо представляешь две фигуры (Казановы и падре Бальби), выкарабкивающихся из мрака, из тюремных камер, замкнутых сводами, на крышу, и…
…вздох свежего, не спертого тюремными стенами, воздуха, открытое пространство вокруг разлилось безмерно - свобода, и темное звездное осеннее небо Венеции глянуло им в очи.

Fiction, конечно, то есть «чтиво», красиво и немного напыщенно, а если мы учтем, что история о побеге рассказана старым брюзжащим сифилитиком в замке Дукс в Богемии, то даже и несколько смешно. Впрочем, не смешней, чем «бездонное небо Аустерлица». Казанова, вылезший на крышу венецианской тюрьмы и цитирующий Данте, прямо-таки pulp fiction, совершеннейший Тарантино — Феллини в своем фильме так, в стиле pulp fiction, жизнь Казановы и изображает. Однако сравним концовку «Ада»: «Мой вождь и я на этот путь незримый / Ступили, чтоб вернуться в ясный свет, / И двигались все вверх, неутомимы, / Он — впереди, а я ему вослед, / Пока моих очей не озарила / Краса небес в зияющий просвет; / И здесь мы вышли вновь узреть светила», — и концовку пятнадцатой главы: «Но настало время пускаться в путь. Луны больше не было видно. Я привязал падре Бальби на шею с одной стороны — половину веревок, а на другое плечо — узел с его жалкими тряпками, и сам поступил так же. И вот оба мы, в жилетах и шляпах, отправились навстречу неизвестности.
E quindi uscimmo a riveder le stelle».

Повторяя вставленную по-итальянски Казановой во французское повествование дантовскую строку, я хочу подчеркнуть, что эта строчка у Данте — Казанова прекрасно это прочувствовал, — знаменуя собой выход из «Ада» вверх, в то же время гениально сохраняет ощущение ужасающего величия низа. Казанова, я уверен, осознавал и пародийность двух пар: Данте с Вергилием и себя с падре Бальби, в жилетах, шляпах, с узлами жалких тряпок на плечах. Пиранези же, с самого начала, то есть «Титульным листом» своего первого издания Capricci di Carceri, задает тон своему произведению, схожий с повестью о путешествии, напоминающем побег. Зритель, как под конвоем, спущен Пиранези по уходящим вниз ступеням гигантской лестницы в странствие по замкнутости Carceri — мира низа, подземелья, преисподней, состоящего из пространств безбрежных, угрожающе пустых и угрожающе заполненных в одно и то же время. Однако в сумеречной прозрачности и неуловимости образов все время маячит некий выход, и мнится: сейчас мы выйдем вверх, наружу, и вновь узрим светила. Последний, четырнадцатый лист серии, названный «Колонна с цепями», как раз и завершает путь: две фигуры на широкой низкой лестнице в центре композиции, одетые в современные костюмы XVIII века, — Казанова с падре Бальби, разве нет? — беседуют, собираясь расстаться друг с другом и с сумраком Carceri. В этой композиции, в «Колонне», лестница подразумевает выход вовне: интерьер похож на изображение какого-то вестибюля, он жанровый, чуть ли не интимный, лишен мегаломании, оставшейся в прошлом, за спиной путешественника-заключенного — то есть нас с вами. Два венецианских фонаря, красиво свисающих со сводов, усиливают впечатление жанровости, и вместе с двойственностью «Титульного листа» эта, последняя, композиция Capricci di Carceri придает всей серии оттенок легкой пародийности, подобный тому, что возникает в «Histoire de ma vie» при сравнении двух пар беглецов: Казановы с падре Бальби и Вергилия с Данте.
Для современного любителя искусства имя Пиранези настолько многомерно, что обладатель его превращается в некий мифологический образ.
Однако и для современников гениального итальянского художника и архитектора Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) оно было окружено легендами. Поражали его необычайная фантазия и колоссальная продуктивность, сочетавшиеся с высоким качеством исполнения офортов, которые до сих пор остаются никем не превзойденными. На протяжении двух столетий его творчество привлекает пристальное внимание графиков, архитекторов, музыкантов, кинематографистов, мастеров прикладного искусства, литераторов.
Чаще всего обращались к Пиранези писатели романтического направления, для которых он был воплощением романтического идеала: гениальный художник и яркая, необыкновенная личность, устремленная в среды, недоступные обычным людям.
В повести английского писателя Томаса де Квинси «Исповедь англичанинаѕ», впервые изданной в России в 1834 году, есть место, навеянное сюитой Пиранези «Темницы»: «Все предметы, приходившие мне на мысль, тотчас превращались в видение. Чувство пространства и времени чрезвычайно увеличилось. Здания имели для меня такую высоту, которой взор не мог объять. Долина расстилалась и терялась в бесконечном пространстве. Один раз сон мой длился несколько тысяч лет. Я видел города и дворцы, вершины которых терялись всегда в облакахѕ Меня зарывали живого в каменные погреба на несколько тысяч лет или в мрачное и печальное убежище, в глубину вечных пирамид».
В очерке, напечатанном анонимным автором в 1831 году в лондонской газете «Библиотека изящных искусств» и озаглавленном «Жизнь кавалера Пиранези», есть любопытный отрывок, принадлежащий якобы самому Пиранези. Он заслуживает того, чтобы привести его полностью: «Я сидел, прикованный цепями, во мраке. Не знаю, как долго это продолжалось. Потом за мной пришли и повели куда-то. Они сказали, что покажут мне кое-что. Я знал, что они стремятся устранить меня.
Факел позволил разглядеть на громадной плите позеленевшую от времени надпись: "Темница Джованни Баттиста Пиранези". Как? Да ведь это я - Пиранези! Я вообразил себе эти страшные казематы, а они выстроили их! Подняв голову, я увидел, что продолжаю сидеть в цепях на плите. А меня тем временем повлекли в неведомое странствие.
Мы были посреди висячего моста, когда его начали разводить с шумом и ржавым скрипом. Но я уже поднимался по бесконечной винтовой лестнице, которая гигантской спиралью вилась вокруг столба. Я увидел чудовищных размеров какие-то приспособления, цепи, кольца, ввинченные в камень. Я еще не понимал их назначения.
Вот на мгновение сквозь пролеты арок мелькнули облака, а под балюстрадой - каменные рельефы. Я успел разглядеть их. Это были сцены пыток. Теперь лестницы из винтовых превратились в прямые, почти отвесные. На подножии одной из них я различил какие-то две скорченные фигуры в рыцарских доспехах. Стены здесь были сложены из необъятных, грубо отесанных плит. Высоко надо мною тянулись лестницы, лестницы, лестницы.
Вдруг арки начали расширяться, образуя необозримые глазом пролеты. На каменной плите, обрывающейся прямо над пропастью, извивались прикованные к столбам гиганты.
 Так вот для чего выстроили эти чудовищные лабиринты! Для гигантов, прикованных к плитам цепями, которые с трудом сдерживали их яростный напор. Их сторожили страшные каменные львы, напряженно выгибавшие спины и готовые в любую минуту сойти с рельефов. Гиганты с ненавистью взирали на уродливые фигурки, которые полновластно распоряжались здесь и совершали странные, но носящие какой-то смысл движения-сигналы. Их четко повторяли такие же существа где-то там, на головокружительной высоте, передавая их все дальше и дальше. Страшные, чудовищные, неповторимые темницы!»
Так вот для чего выстроили эти чудовищные лабиринты! Для гигантов, прикованных к плитам цепями, которые с трудом сдерживали их яростный напор. Их сторожили страшные каменные львы, напряженно выгибавшие спины и готовые в любую минуту сойти с рельефов. Гиганты с ненавистью взирали на уродливые фигурки, которые полновластно распоряжались здесь и совершали странные, но носящие какой-то смысл движения-сигналы. Их четко повторяли такие же существа где-то там, на головокружительной высоте, передавая их все дальше и дальше. Страшные, чудовищные, неповторимые темницы!»
В этом отрывке великолепно выражена идея «внутреннего путешествия», совершенного Пиранези. Здесь выделен момент активного проникновения самого автора в создание собственного воображения, что очень созвучно романтической эстетике.
Искусство и личность Пиранези привлекли внимание русских романтиков XIX века. Так, уже в 1832 году новелла В.Ф. Одоевского «Труды кавалера Джанбатиста Пиранези» появилась в альманахе «Северные цветы».
Герой новеллы Одоевского, русский путешественник, находит в антикварной книжной лавке в Неаполе несколько огромных фолиантов с офортами Пиранези. «Более всего поразил меня один том, почти с начала до конца наполненный изображениями темниц разного рода: бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, поросшие травою стены - и, для украшения, всевозможные казни и пытки, которые когда-либо изобретало преступное воображение человека. Холод пробежал по моим жилам, и я невольно закрыл книгу».
В этой же лавке рассказчик замечает «старого чудака, который всегда в одинаковом костюме с важностью прохаживался по Неаполю и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимал свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже видал я этого оригинала и весьма рад был случаю свести с ним знакомство».
Из дальнейшего выясняется, что этот оригинал не кто иной, как Пиранези, который сообщает следующее: «Чувствуя приближение старости и помышляя о том, если бы кто захотел поручить мне какую-либо постройку, то не достало бы жизни моей на ее окончание, я решился напечатать мои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но сталось совсем другое. Я узнал, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина служит жилищем такому духуѕ Духи, мной порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами».
 В своем персонаже В.Ф. Одоевский хотел выразить определенное творческое состояние, о чем в письме А.А. Краевскому сказано: «Невозможно приказать себе писать то или другое, так или иначе; мысль мне является нежданно, самопроизвольно и, наконец, начинает мучить меня, разрастаясь беспрестанно в материальную форму, - этот момент психологического процесса я хотел выразить в Пиранези». Для замечательного русского романтика главной ценностью и предметом изучения была самобытная и независимая личность, которая наиболее полно выражает себя в искусстве: «Наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; книги, люди могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в нем самом; кто в душе своей не отыщет отголоски какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом, другими словами - никогда не достигнет до глубины души своей».
В своем персонаже В.Ф. Одоевский хотел выразить определенное творческое состояние, о чем в письме А.А. Краевскому сказано: «Невозможно приказать себе писать то или другое, так или иначе; мысль мне является нежданно, самопроизвольно и, наконец, начинает мучить меня, разрастаясь беспрестанно в материальную форму, - этот момент психологического процесса я хотел выразить в Пиранези». Для замечательного русского романтика главной ценностью и предметом изучения была самобытная и независимая личность, которая наиболее полно выражает себя в искусстве: «Наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; книги, люди могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в нем самом; кто в душе своей не отыщет отголоски какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом, другими словами - никогда не достигнет до глубины души своей».
Спустя столетие после новеллы Одоевского романтическая фигура Пиранези появилась на страницах «Образов Италии». Небольшой по объему очерк П.П. Муратова, написанный в лучших традициях русской романтической прозы, раскрывает особенности гения Пиранези, который «появился как раз в ту минуту, когда на земле Рима прекратилось многовековое сотрудничество искусства и природы, а XVIII век только что внес последние архитектурные и живописные черты в картину Рима. Пиранези оставалось увековечить ее в своих гравюрах, и самые эти руины, словно застигнутые им в последние часы их дикого, естественного и нетронутого великолепия, накануне вторжения в их глубокий покойѕ охранительных забот классической моды». Вдохновляясь образами офортов Пиранези, Муратов создает шедевры поэтической прозы: «Он жил в каком-то странном мире опрокинутых и заросших кустарников, стен, разбитых плит, громоздящихся друг на друга барельефов, изъеденных временем алтарей. Длиннобородые дикие козлы пасутся среди них, отыскивая траву, или там бродят тревожно жестикулирующие романтические фигуры людей, представляющих нечто среднее между разбойниками, нищими и энтузиастами древности. Сам Пиранези был похож на одного из них, когда пробирался сквозь заросли, окружавшие тогда виллу Адриана. Смерть застала его в то время, как он работал над изображением ее развалин. Он еще успел попутно высказать гениальные догадки и об ее плане, и расположении, которые подтвердились впоследствии исследованиями археологов».
Несколько ярких страниц своего извест-ного романа «Эгерия» (1922) Муратов также посвящает Пиранези. Живой, обаятельный образ великого мастера - один из наиболее запоминающихся в романе. Пиранези предстает здесь как неутомимый энтузиаст, любитель древностей, неистовый мечтатель: «Мы работали в то лето на вилле Адрианаѕ Он был охвачен страстным желанием проникнуть в смысл руин, таящихся среди непроходимых зарослейѕ Пробираясь сквозь колючки терновника и чащи мирт, мы следовали за ним с отвесами, мерительными шнурами. Неутомимый искатель карабкался по камням развалин, рука его повелительно указывала нам путь, и голос, хриплый от нетерпения, бранил нас за медлительность. Со стороны мы представляли, должно быть, странное зрелище группы людей, то появляющихся, то исчезающих среди старых камней и вечнозеленой листвы, непрестанно перекликающихся между собой или издалека жестикулирующих друг другу».
Перед нами будто оживший офорт Пиранези - с его резкими контрастами света и тьмы, могучих живописных руин и крошечных человеческих фигурок, исполненных неистового движения.
на журнал "Человек без границ"